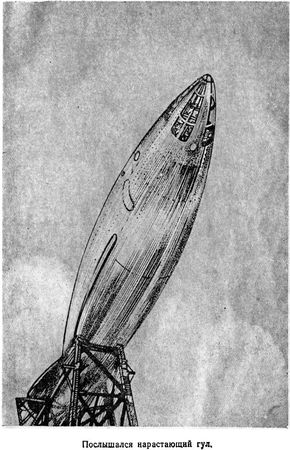
Я завидовал полному спокойствию, с которым Белопольский терпеливо ждал конца этой пытки. Пайчадзе, более нервный, часто смотрел на часы.
Примерно через двадцать минут после начала полета Камов неожиданно для меня встал и подошел к одному из окон. Он двигался, по-видимому, легко. Немного сдвинув плиту, закрывавшую окно, он посмотрел в узкую щель. Я бы дорого дал, чтобы быть на его месте.
Последние минуты тянулись невероятно медленно. Стрелки часов как будто остановились совсем.
Осталось три минуты… потом две…
Скорость нашего корабля приближалась к чудовищной цифре - двадцать восемь с половиной километров в секунду. Когда двигатели замолкнут, мы будем лететь с этой скоростью семьдесят четыре дня, пока не достигнем Венеры.
Когда осталась одна минута, я закрыл глаза и приготовился к той огромной перемене, которая должна была произойти, - от удвоенной тяжести к полной невесомости. Я знал, что шевелиться надо будет очень осторожно, пока организм не приспособится к этому.
Внезапно что-то случилось. В ушах стоял прежний гул, но я всем телом почувствовал перемену. Появилось легкое головокружение, но оно почти тотчас же прошло. Тюфяк, на котором я лежал, стал вдруг неощутимо мягок. Я почувствовал себя так, как будто лежал на поверхности воды. Гул быстро стихал, и я понял, что он только у меня в ушах. Кругом была тишина. Двигатели прекратили работу.
Открыв глаза, я увидел Камова, который стоял у пульта.
Стоял… но его ноги не касались пола. Он неподвижно висел в воздухе без всякой опоры.
Эта, впервые увиденная, фантастическая картина поразила меня, хотя я знал, что так и должно быть. Корабль превратился в маленький обособленный мир, в котором полностью отсутствовала тяжесть.
Я лежал, не решаясь сделать хотя бы одно движение.
Пайчадзе снял шлем и встал. Ни один акробат на Земле не смог бы сделать это таким образом. Он согнул ногу, поставил ступню на пол и плавно выпрямился во весь рост.
Белопольский сел и какими-то странными, неуверенными движениями тоже снял шлем. По его губам я видел, что он что-то говорит. Пайчадзе протянул ему руку, и Константин Евгеньевич неожиданно оказался в воздухе. Впервые я увидел на его невозмутимом лице волнение. Он сделал попытку встать на ноги, но вдруг повернулся головой вниз. Пайчадзе смеясь помог ему принять прежнее положение. Он что-то говорил, но сквозь шлем я не слышал ни звука. Меня окружала мертвая тишина.
Оба астронома направились к окну. Вернее, направился один Пайчадзе, а Белопольский двигался за ним, уцепившись за его руку. Достигнув стены, он ухватился за один из бесчисленных ремней, прикрепленных повсюду, и, по-видимому, обрел устойчивость. Пайчадзе нажал кнопку - и металлическая ставня поползла в сторону.
Любопытство заставило меня покинуть спасительный тюфяк. Я медленно отстегнул ремни и снял шлем. Было странно чувствовать свои невесомые руки. Я бросил шлем на тюфяк, но он не упал, а повис в воздухе.
Осторожно, стараясь не делать резких движений, я стал подниматься на ноги. Всё шло хорошо, и я самодовольно думал, что не последую примеру Белопольского, как вдруг, заметив, что вишу в воздухе, сделал невольное движение схватиться за что-нибудь. Мои ноги на короткий миг коснулись пола, и я, как пушинка, взлетел к потолку, - вернее, к той части помещения, которая до сих пор воспринималась как потолок.
Корабль как будто мгновенно перевернулся. "Пол" и всё, что на нем находилось, оказалось "наверху". Камов, Пайчадзе и Белопольский повисли вниз головой.
Мое сердце бешено билось от волнения, и я с трудом удержался от крика. Камов посмотрел на меня.
- Не делайте резких движений, - сказал он. - Вы сейчас ничего не весите. Вспомните, что я вам говорил на Земле. Плавайте в воздухе, как в воде. Оттолкнитесь от стены, но только очень слабо, и двигайтесь ко мне.
Я последовал его совету, но не сумел рассчитать силу толчка и стремительно пролетел мимо Камова, довольно сильно ударившись о стену.
Не стоит описывать подробно все случаи, которые происходили в эти первые часы почти непрерывно со мной и Белопольским. Если бы все эти невольные полеты и кувырканья мы проделали на Земле, то давно сломали бы себе шею, но в этом невероятном мире всё это прошло безнаказанно, если не считать нескольких синяков.
Камов и Пайчадзе, прошедшие уже школу предыдущего полета, помогли нам получить первые навыки для движений, но и они не избежали ошибок.
Любопытно было наблюдать при этом за выражением лиц моих спутников. Пайчадзе, сделав неловкое движение, весело смеялся, и было видно, что он нисколько не боится показаться смешным. Камов хмурил свои густые брови и сердился на самого себя за проявленную неловкость. Белопольский после каждого невольно проделанного "трюка" украдкой взглядывал на нас, и на его серьезном морщинистом лице появлялось выражение страха. Это был страх перед насмешкой, но даже Пайчадзе, беспощадно насмехавшийся надо мной, ни разу не улыбнулся при неловкости, проявленной Константином Евгеньевичем.
Что касается меня, то я, не обращая внимания на насмешки Пайчадзе, намеренно делал различные движения, чтобы скорее научиться "плавать в воздухе".
В общем мы освоились довольно быстро. Не прошло и трех часов, как я уже мог двигаться, куда хотел, произвольно меняя направление, пользуясь для этого ремнями, стенами, любыми попавшими под руку предметами.
Свободное парение в воздухе доставляло неописуемое ощущение, напоминающее далекое детство, когда я во сне так же свободно летал с места на место, просыпаясь всегда с чувством сожаления, что сон кончился.
Мы провели несколько часов у окна обсерватории. Оно было не очень велико, приблизительно метр в диаметре, но поразительно прозрачно, несмотря на значительную толщину стекла.
Звездный мир производил подавляющее впечатление своей грандиозностью. Но особенно поразительный, ни с чем не сравнимый вид имели в эти первые часы полета Земля и Луна. Мы находились на таком расстоянии, что оба небесных тела казались нам приблизительно одинаковых размеров. Два огромных шара, один желтый, а другой бледно-голубой, висели в пространстве сзади и немного левее пути корабля. Солнце освещало значительно больше половины их видимой поверхности, но и неосвещенная часть легко угадывалась на черном фоне неба. Как мне и говорил Камов во время нашего первого разговора два месяца тому назад, мы видели ту сторону Луны, которая не видна с Земли. Казалось, что это не хорошо известная, привычная с детства спутница Земли, а какое-то другое, незнакомое небесное тело.
Может быть, только сейчас, глядя на родную планету, находящуюся так далеко, я впервые почувствовал тоску разлуки. Мне вспомнились друзья, с которыми я простился накануне старта, товарищи по работе. Что они делают в эту минуту? В Москве сейчас день. Ясное голубое небо раскинулось над ними, и за этой голубизной не видно крохотной точки нашего звездолета, который всё дальше и дальше удаляется в черную бездну мира.
Я взглянул на своих товарищей. У Камова и Пайчадзе лица были спокойны, как всегда. Изрезанное морщинами лицо Белопольского было грустно, и мне показалось, что на его глазах блестят слезы. Подчиняясь невольному порыву, я взял его руку и пожал. Он ответил на мое пожатие, но не обернулся ко мне.
Я почувствовал тяжесть на сердце и отвернулся. Внешнее спокойствие Камова и Пайчадзе в этот момент было мне неприятно, но я понимал, что они только лучше владеют собой, чем мы, но испытывают, вероятно, те же чувства.
Я подумал: "Эти два человека покидают Землю не в первый раз. Может быть, когда они вдвоем летели к Луне, они не были так спокойны".
Около часа на борту корабля царило полное молчание. Все смотрели на далекую Землю. На ее диске я не различал почти никаких подробностей, и она нисколько не походила на школьный глобус, как ее иногда рисуют в книгах.
- По-видимому, - сказал я, - на всей поверхности Земли густая облачность.
- Почему так думаете? - спросил Пайчадзе.