Автомат залаял отрывисто и четко, но что-то простучало по палубе, как горох. Трофимов упал, выронив снаряд, и автомат захлебнулся: пикировщик дал очередь из пулемета. Кротких подскочил к орудию и, быстро нагибаясь к снарядам, им же самим приготовленным на мате, накормил голодную обойму. Автомат вновь заработал. И все внимание ушло на то, чтобы успеть брать из ящика новые снаряды и вставлять их в обойму, и совершенно некогда было подумать, что вот наконец он, Кротких, сам ведет бой. Рядом с бортом встал огромный столб воды и дыма, что-то провизжало мимо орудия. Вслед за бомбой в ту же вздыбленную воду с воем и ревом врезался самолет. Кротких заметил лишь хвост с черным крестом и понял, что они все-таки сбили немца, нахально "пикнувшего" на миноносец, у которого замолчал автомат. Но и этому он не успел ни обрадоваться, ни удивиться, потому что сзади него закричали:
- Мины!..
Он обернулся. Ящик с минами горел, сильно дымя. Мины в нем вот-вот должны были начать рваться. Он увидел, как в дыму мелькнула чья-то фигура, как чьи-то руки пытались приподнять ящик и как потом краснофлотец (кто - он так и не разобрал) отскочил… Гущев отчаянно махнул рукой, сорвал с себя телефонный шлем и крикнул:
- Все с кормы!
Каждую секунду могли рвануть, два десятка мин, из которых и одной хватило бы на весь орудийный расчет. Кротких вдруг подумал, что вслед за минами начнут рваться в пожаре и его снаряды, а за ними - погреба и весь корабль, и шагнул было к ящику. Но тут за кормовой рубкой грохнуло четвертое орудие, и ему показалось, что уже грянула взрывом пылающая в ящике смерть. Это было так страшно, что он ринулся с кормы вслед за остальными. Шаг в сторону ящика оставил его позади всех, и отчаяние охватило его: если он споткнется, ему никто не поможет. Подлое, паническое малодушие подогнуло его колени. Он сделал, усилие, чтобы шагнуть, - и вдруг далеко впереди, у носового мостика, увидел комиссара.
Филатов, расталкивая встречных, бежал на корму, и Кротких понял, зачем. Догадка эта поразила его. В два прыжка Кротких очутился у ящика и, обжигая ладони, ухватился за дно. Ящик был слишком тяжел для одного человека. Второй бежал на помощь. Но этот второй человек был комиссар корабля, и подпустить его к ящику было нельзя.
Кротких присел на корточки и схватил раскаленный стабилизатор крайней мины. Ладонь зашипела, острая боль на миг захолонула сердце, но мина вылетела за борт. Он тотчас схватил вторую.
Может быть, он что-то кричал. Так потом рассказывали, ему товарищи: говорили, что он прыгал на корточках у ящика, танцуя какой-то страшный танец боли и ругаясь во весь голос бессмысленно и жутко. Но мины летели за борт одна за другой, быстро освобождая горящий ящик. Выпрямляясь с очередной миной в руке, он увидел комиссара: тот был уже у кормового мостика, рядом со смертью. Тогда Кротких, надсаживаясь, поднял на поручни опустошенный наполовину ящик. Пламя лизнуло его лицо. Бушлат загорелся. Он отвернул лицо и сильным толчком сбросил за борт ящик. Потом ударил по бушлату ладонями, уже не чувствующими огня.
Тут кто-то крепко и сильно обхватил его плечи. Он повернул голову. Это подбежал комиссар.
- Ничего, товарищ комиссар, уже тухнет, - сказал он, думая, что комиссар тушит на нем бушлат.
Но, взглянув в глаза комиссару, он понял - это было объятие.
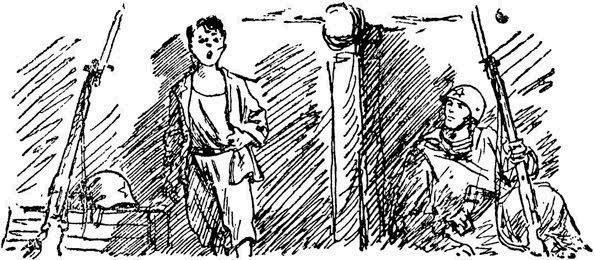
Волшебный крысолов
К вечеру секретарь парткомиссии полковой комиссар Дорохов закончил вручение партийных билетов на командном пункте бригады морской пехоты. В сумерки он надел каску, взял автомат и пошел в третий батальон: моряки сидели там в сотне метров от немцев, и попадать туда можно было только с темнотой.
Вечер ложился прохладный и ясный. Небо над горами еще сияло бледным зеленоватым светом, но скоро черное сухое кружево голых зимних сучьев утратило отчетливость своего узора, и на тропинке стало почти темно. В дубняке стояла тишина - если можно назвать тишиной тяжкое шуршанье своих снарядов, предваряемое глухим ударом залпа, и быстрый свист немецких, кончающийся плотным разрывом неподалеку. Но это и была тишина переднего края: винтовки и пулеметы молчали и чавканье сапог связного казалось слишком громким.
Дорохов шел за ним быстро и сноровисто, сторожко ожидая того нарастающего свиста, который может быть последним, что услышишь в жизни, если не сумеешь отличить этот звук от других, безопасных, и не успеешь до разрыва снаряда упасть ничком. Это стало привычкой: сколько уже раз ходил он так под мины а снаряды, чтобы своими руками передать бойцу или командиру признание партии и высокий знак ее доверия - новенький партийный билет. Нынче он нес их пять, и один из них капитану Митякову, командиру третьего батальона.
Связной остановился и, пошептавшись в кустах с кем-то невидимым, доложил Дорохову, что капитан выставил на ночь заслон с тыла, ожидая нынче немецких автоматчиков, и что теперь придется обождать краснофлотца, который ушел провести новым проходом обогнавшего их почтаря.
Дорохов присел на камень.
Артиллерийская дуэль прекратилась, и в дубняке стало удивительно тихо. Обе ночи Дорохов провел в других батальонах, а днем довелось поспать часа полтора. Он шепнул связному: "Буди, коли что", прислонился к скале и тотчас уснул.
Хорошо, что война иногда разрешает нам сон - короткий, военный сон в оружии, на коне или в машине, на штормующем корабле, под грохот снарядов или в ожидании атаки, - скупой, суровый, но полный отдых. Короткий и плотный, этот военный сон подкрепляет, как глоток свежей воды. Глубокое, совершенное забвение гасит для тебя бушующую по всей земле войну, и ты впитываешь в нем новые силы для души и тела.
Но помни, товарищ: если мелькнет перед тобой в коротком этом сне дорогое лицо ребенка или дальняя тихость забытого дома наплывет на тебя нежно и коварно, если плечо, затянутое боевыми ремнями, стынущее у стенки окопа или мокрое от волны, одинокое твое плечо почует милую тяжесть сонной родной головы, - проснувшись, не следи отлетающего виденья. Вокруг тебя - бой. Мечтать не время. Спокойствие, любовь и счастье - все, о чем тоскует в войне человеческое сердце, - все это сведено войной к одному понятию: победа. Ты отдохнул: улыбнись благодарно милым виденьям, собери всю волю и всю ненависть; будь быстрее, отважнее, хитрей и осторожней, чем враг, чтобы вырвать у него победу, без которой (ты сам это знаешь!) никогда не будет для тебя ни покоя, ни счастья, ни жизни.
Дорохову приснилась почему-то песня, которую пел глубокий женский голос. И в невыразимом волшебстве сна встало перед ним чье-то лицо, прекрасное и небывалое, но знакомое и дорогое, а за ним - жаркий простор родных, забытых полей юности и в них - ленивый покой и долгая тишина. Но рядом хрустнула ветка, и он проснулся, так же как заснул: внезапно и без движения, только раскрыв глаза.
Перед ним была неясная тьма дубняка. Он тотчас вспомнил, где он, какой драгоценный груз лежит в кармане у сердца, и, прогнав обманы сна, приподнял автомат и прислушался. Но странное дело: привыкший сразу же возвращаться от сна к действительности, на этот раз он, вероятно, продолжал грезить с открытыми глазами: песня звучала в лесу вольно и властно.
Ее пел голос необыкновенной чистоты я силы. Он пел свободно и просто, тем богатым и глубоким звуком, который умеет найти в старинной скрипке настоящий артист. Над передним краем, над винтовками и минометами, готовыми к стрельбе, над темным дубняком, где, может быть, уже крались немецкие автоматчики, песня плыла величаво и спокойно, как полная светлая луна, и ни один выстрел не нарушал ее плавного хода. Песня была незнакомая, но слов ее Дорохов и не старался разобрать. Он просто слушал чудесный этот звук, и хотелось одного: чтобы он не замолк.
Песня томила и колдовала, она затягивала в себя, как теплое и сильное течение, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поддаться желанию забыть обо всем и только следить за мягкими и плавными волнами удивительного этого голоса. Он с раздражением подумал, что такая песня на войне ни к чему: можно так заслушаться, что прозеваешь то, что делается вокруг тебя во тьме. И тут же он решил сказать военкому батальона, что если уж затаскивать к себе в окопы артистов, то музыку надо давать пободрее, а то, гляди, такой концерт и боком выйдет… Но голос звучал - и он снова заставил себя думать о другом, чтобы освободиться от коварного его обаяния.
Вернулся провожатый. Связной тронул Дорохова за рукав, и они молча пошли навстречу песне. Она закончилась, но тотчас же голос начал другую.
Скоро, пригнувшись, они вышли узким ходом сообщения в глубокий окоп, я Дорохов понял, что поют совсем рядом. Он заглянул за скалистый траверз окопа и увидел того, кто пел.
Это был мальчик лет двенадцати-тринадцати. Рядом с ним стоял старший политрук Галкин, военком батальона, светя на планшет карманным фонариком.
Блики света падали на лицо певца. Оно было совсем детским, и когда он подымал глаза в темноту, взгляд его сиял всей безмятежной чистотой начала жизни. Он пел с видимым удовольствием, склонив голову набок и как бы сам. прислушиваясь к тому богатому звуку, который вырывался из его губ. Порой губы эти улыбались, и он хитро подмигивал Галкину, который также хитро отвечал ему ободряющей улыбкой, отрываясь от карты. Дорохов тронул его плечо, и Галкин погасил фонарик.
- Неудачный концерт, товарищ старший политрук, - сказал недовольно Дорохов, здороваясь. - Никуда такая музыка не годится, совсем не военные мысли под нее идут.
- Точно, - ответил Галкин. - Приметил - ни одного выстрела: слушают гансы… А у меня матросики тем временем выспятся, что надо… Третий вечер так припухаем, красота!